дэвид гребер в чем смысл если нельзя повеселиться
Дэвид гребер в чем смысл если нельзя повеселиться
Однажды мы с моей подругой Джун Тандерсторм (June Thunderstorm) провели полчаса сидя на лугу у горного озера, наблюдая как гусеница свешивается с вершины травинки, вертится туда-сюда и затем перепрыгивает на следующий стебелек, где проделывает то же самое. Так продолжалось и дальше, снова и снова. Казалось, что гусеница тратит много сил совершенно впустую.
«Все животные играют, — однажды сказала мне Джун. — Даже муравьи». За много лет работы профессиональной садовницей она видела множество подобных случаев и у нее было время поразмыслить над этим. «Смотри, — сказала она со скромным торжеством. — Понимаешь, о чём я?»
Большинство из нас потребовали бы доказательств, услышав эту историю. Откуда мы знаем, что гусеница именно играла? Возможно, гусеница, нарезая в воздухе невидимые круги, просто искала неизвестную добычу или совершала брачный ритуал. Можем ли мы доказать обратное? Даже если гусеница действительно играла, откуда мы знаем, что эта игра не служит сугубо практической цели: тренировке или подготовке к возможным трудностям?
Так подумало бы и большинство профессиональных этологов. Вообще говоря, анализ поведения животных не будет считаться научным до выдвижения как минимум неявного предположения, что животные действуют согласно тем же законам расчета выгоды и издержек, что и экономические агенты. Согласно этому предположению, затраты энергии должны быть направлены на определенную цель: поиск пищи, защиту территории, достижение доминирования или максимизацию репродуктивного успеха — пока кто-то не сможет неопровержимо доказать обратное. Как можно догадаться, неопровержимые доказательства в таких случаях получить непросто.
Здесь я должен подчеркнуть: неважно, какой теории мотивации животных придерживаются ученые, что они думают о мышлении животных и считают ли они вообще животных способными мыслить. Я не утверждаю, что этологи действительно верят, что животные — просто рациональные вычислительные машины. Просто этологи, каким бы образом они ни рассматривали животную психологию и мотивацию, загнали себя в ситуацию, в которой быть «научным» означает предлагать объяснения поведения в терминах «рациональности». А это значит описывать животных так, как будто они — экономические агенты, которые пытаются получить максимальную прибыль.
Поэтому само существование игры у животных считается чем-то вроде интеллектуального скандала. Тема мало изучена, а те, кто занимаются ею, считаются слегка эксцентричными людьми. Как и в случае с многими другими смутно пугающими спекулятивными гипотезами, исследованиям, доказывающим наличие игры у животных, приходится соответствовать труднодостижимым критериям. И даже в том случае, если исследование отвечает этим критериям, ученые чаще всего губят свои выводы, пытаясь показать, что игра животных служит долгосрочной цели выживания или размножения.
Несмотря на все это, те, кто глубоко погружаются в вопрос, неизменно вынуждены заключить, что игра действительно существует в животном мире. Она существует не только у общепризнанно игривых существ — обезьян, дельфинов или щенков, — но, неожиданно, и у лягушек, саламандр, мальков рыб, крабов-скрипачей и даже муравьев. Последние не только играют поодиночке, но и устраивают, как заметили еще в девятнадцатом веке, игру в войнушку, видимо, просто ради забавы.
Уже в девятнадцатом веке, в эпоху зарождения дарвинизма, биологический мир было принято рассматривать в экономических категориях. В конце концов, Чарльз Дарвин позаимствовал концепцию «выживания наиболее приспособленных» у социолога Герберта Спенсера, любимца баронов-разбойников. Спенсер, в свою очередь, был поражен тем, насколько движущие естественным отбором силы, описанные в труде «О происхождении видов», перекликались с его собственными свободнорыночными (laissez-faire) взглядами на экономику. Борьба за ресурсы, рациональный расчет выгоды и последовательное вымирание слабых стали рассматриваться как основополагающие принципы бытия.
От того, какая интерпретация природы победит, зависело многое, и в скором времени прозвучали первые возражения. Альтернативная школа дарвинизма сформировалась в России. Она подчеркивала роль взаимовыручки, а не конкуренции как движущей силы эволюции. В 1902 году натуралист и революционно-анархистский памфлетист Петр Кропоткин изложил этот подход в известной книге «Взаимопомощь как фактор эволюции». Критикуя идеи социал-дарвинистов, Кропоткин оспаривал саму теоретическую основу их позиции: наиболее склонные к взаимовыручке виды, как правило, в перспективе оказываются и наиболее конкурентоспособными. Княжич Кропоткин (он отказался от титула в молодости) много лет исследовал природу Сибири перед тем, как попасть в тюрьму за революционную агитацию, откуда он сбежал в Лондон. «Взаимопомощь…» выросла из серии эссе, написанных в ответ на работы известного британского социал-дарвиниста Томаса Генри Хаксли. Резюмируя свое понимание эволюции, Кропоткин писал, что, хотя роль конкуренции в эволюции природы и общества несомненна, наибольшее значение имеет именно сотрудничество.
Полностью использовать свои способности значит получать удовольствие от собственного существования. У социальных животных это удовольствие пропорционально возрастает, когда они делают это в компании своих сородичей. С точки зрения Кропоткина в этом нет ничего удивительного — это и есть жизнь. Не нужно объяснять, почему живым существам нравится жить. Жизнь самоценна. И если быть живым — это быть способным бегать, прыгать, бороться и летать по воздуху, то и применение этих сил в качестве самоцели не требует объяснения. Это всего лишь развитие того же самого принципа.
Уже в 1795 году Фридрих Шиллер утверждал, что именно игра лежит в основе самосознания, а значит свободы и нравственности. «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет», — писал Шиллер в «Письмах об эстетическом воспитании человека». Если это так, и если Кропоткин был прав, то проблески свободы и даже нравственности становятся заметны повсюду.
Неудивительно, что неодарвинисты проигнорировали этот аспект теории Кропоткина. В отличие от «проблемы альтруизма», идея о том, что животные сотрудничают ради удовольствия, просто не могла быть приспособлена к их идеологическим задачам.На деле предложенная в двадцатом веке концепция борьбы за существование оставляла меньше места для игры, чем ее старая викторианская версия. Самому Герберту Спенсеру не казалось странным, что животные могут играть просто так, наслаждаясь избытком энергии. Почему животные, преуспевшие в борьбе за существование, не могут позволить себе немножко поиграть, вроде того как успешный промышленник или торговец может дома развлечь себя игрой в поло или криббедж? Все это невозможно в новом, полностью капиталистическом видении эволюции, где стремление к накоплению лишено пределов. Там, где жизнь больше не самоцель и сводится к простому инструменту воспроизводства цепочек ДНК, само существование игры становится чем-то невероятным.
Американский философ Дэниел Деннет довольно четко формулирует эту проблему. «Возьмите лобстеров, — говорит он, — это всего лишь роботы. У лобстеров вообще нет самосознания. Вы не можете представить себе, каково это — быть лобстером. Это ни на что не похоже. У них нет ничего даже отдаленно напоминающего сознание; это машины». Но если это так, утверждает Деннет, это предположение следует распространить на все эволюционное древо — от клеток, из которых состоят наши тела, до таких сложных, проявляющих почти человеческие качества существ, как обезьяны и слоны, чья способность совершать осмысленные действия не может быть неопровержимо доказана. И все идет гладко, пока Деннет внезапно не доходит до людей, которые, хотя и проводят 95% своей жизни на автопилоте, тем не менее проявляют что-то наподобие «Я» — откуда-то взявшегося самосознания, которое иногда неожиданно напоминает о себе, чтобы свысока подметить, что стоило бы поискать новую работу, бросить курить или написать научную статью о происхождении сознания. Деннет говорил:
«Да, у нас есть душа. Но она состоит из множества крошечных роботов. Каким-то образом триллионы составляющих наше тело роботоподобных (и бессознательных) клеток объединяются во взаимосвязанные системы, которые выполняют действия, обычно приписываемые душе, эго или «Я». Но поскольку мы уже признали, что простые роботы бессознательны (если тостеры, термостаты и телефоны бессознательны), почему команды таких роботов не могут создавать свои причудливые проекты, не образуя «Я»? Если бы иммунная система обладала своим разумом, а зрительно-моторная система координации, отвечающая за сбор ягод, — своим, то для чего был бы нужен контролирующий все это сверхразум?»
Из этой дилеммы есть выход. Для начала нужно признать, что была выбрана неверная отправная точка. Посмотрите на лобстеров. У лобстеров очень дурная репутация среди философов, которые часто приводят их как пример полностью бессознательных и бесчувственных созданий. Возможно, дело в том, что лобстеры — единственные животные, которых философы собственноручно убивают ради еды. Неприятно кидать в кастрюлю с кипящей водой сопротивляющееся живое существо; нужно убедить себя в том, что на самом деле лобстеры ничего не чувствуют (единственным исключением из этого правила по какой-то причине стала Франция, где Жерар де Нерваль выгуливал на поводке домашнего лобстера, а Жан-Поль-Сартр, приняв слишком много мескалина, в какой-то момент стал эротически одержим лобстерами). Однако исследования показали, что даже лобстеры могут играть — например, манипулировать предметами (возможно, просто ради удовольствия). В таком случае, называя их «роботами», мы лишаем слово «робот» смысла. Машины в принципе не могут дурачиться. Но если живые существа все-таки не роботы, многие из этих, казалось бы, трудных вопросов просто отпадают.
Что, если мы посмотрим на вопрос с другой стороны? Что, если игра — не странная аномалия, а всеобщий принцип, присущий не только лобстерам и прочим живым существам, но и всем «самоорганизующимся системам»?
Это вовсе не такой вздор, как может показаться на первый взгляд.
Пытаясь разобраться, как жизнь появилась из косной материи, а микробы эволюционировали до разумных существ, философы науки предложили два объяснения.
Первое объяснение опирается на концепцию эмерджентизма. Идея состоит в том, что при достижении определенного уровня сложности происходит что-то вроде качественного скачка в развитии, при котором могут «появиться» совершенно новые законы природы — основанные на законах, что были до них, но не сводимые к ним. Так, законы химии опираются на законы физики, но не могут быть сведены к ним. Точно так же и законы биологии опираются на химические: безусловно, нужно понимать химическую структуру тканей рыб, чтобы понять, как рыбы плавают, но химический состав сам по себе не даст полной картины. Аналогичным образом можно сказать, что разум человека проявляется как коллективное свойство клеток, из которых он состоит.
Сторонники второй точки зрения, которую обычно обозначают как панпсихизм или панэкспериенциализм, соглашаются, что это может быть и так, но одной эмерджентности недостаточно. Как недавно заметил британский философ Гален Стросон, идея о том, что за два прыжка можно преодолеть пропасть между бесчувственной материей и кем-то, способным рассуждать о существовании бесчувственной материи, отводит эмерджентности слишком большую роль. Для того, чтобы появление разумных существ стало возможным, свойства, которые мы обычно ассоциируем с жизнью (и даже разумом), должны присутствовать на каждом уровне материи, даже среди субатомных частиц. Это может быть что-то совсем зачаточное — минимальная реакция на окружающую среду, что-то наподобие предчувствия или памяти. Но, каким бы примитивным ни было это свойство, оно должно существовать, чтобы атомы или молекулы изначально могли собираться в самоорганизующиеся системы.
От исхода этой полемики зависит ответ на множество различных вопросов, в том числе связанных с пресловутой проблемой свободы воли. Многие подростки задавались следующим вопросом (зачастую это происходит, когда они, накурившись марихуаной, решают поразмыслить над тайнами вселенной): если движение частиц, формирующих наш мозг, предопределено законами природы, то как тогда мы можем сказать, что у нас есть свобода воли? Стандартный ответ на этот вопрос состоит в том, что со времен Гейзенберга мы знаем, что движение элементарных частиц не предопределено. Квантовая физика может предсказать, где с наибольшей вероятностью окажутся электроны в заданных условиях, но невозможно точно определить, куда и как прыгнет каждый электрон в каждом конкретном случае. Проблема решена!
Вот только не до конца — чего-то все еще не достает. Если из неопределенности Гейзенберга следует, что составляющие наш мозг частицы носятся хаотично, все равно выходит, что существует некая нематериальная, метафизическая сущность («разум»), которая вмешивается и направляет нейроны в определенном направлении. Но тогда круг замыкается: вам уже нужно быть разумным, чтобы заставить мозг действовать разумно.
Напротив, если мы исходим из того, что эти движения не случайны, то можем начать искать их материальное объяснение. Присутствие в природе бесчисленных форм самоорганизации, структур, пребывающих в равновесии с окружающей их средой, — от электромагнитных полей до процессов кристаллизации — открывает панпсихистам большое поле исследований. Но если мы отвергаем подход панпсихистов, то у нас остается всего два варианта: либо мы считаем, что все тела просто подчиняются «законам природы» (существование которых почему-то не нуждается в объяснении), либо они движутся совершенно случайным образом. И оба эти варианта не объясняют, откуда у нас взялся разум, способный размышлять обо всем этом.
Конечно, подход панпсихистов всегда был позицией меньшинства. Исследователи не обращались к нему на протяжении большей части двадцатого века. Его так просто высмеять: «Погодите, вы серьезно считаете, что столы могут думать?» (нет, на самом деле никто так не считает; тезис состоит в том, что самоорганизующиеся системы, такие как атомы, составляющие столы, проявляют на максимально простом уровне качества, которые на экспоненциально более сложном уровне мы рассматриваем как мышление). Но в последние годы, особенно из-за переоткрытия идей философов Чарльза Сандерса Пирса (1839–1914) и Альфреда Норта Уайтхеда (1861–1947), мы снова видим возрождение интереса к панпсихизму в некоторых научных кругах.
Удивительным образом в основном физики оказываются восприимчивы к таким идеям (а также математики — возможно, в этом нет ничего удивительного, ведь сами Пирс и Уайтхед в начале своей карьеры занимались математикой). Физики, в отличие, скажем, от биологов, — менее зашоренные и более расположенные к игре люди. Несомненно, отчасти это связано с тем, что им редко приходится полемизировать с религиозными фундаменталистами, оспаривающими законы физики. Они — поэты научного мира. Если человек готов признать существование тринадцатимерных объектов и бесчисленного числа альтернативных вселенных или небрежно предположить, что 95 процентов вселенной состоит из темной материи и энергии с неизвестными нам свойствами, то ему или ей, возможно, не так уж сложно представить, что электроны проявляют «свободу воли» или даже испытывают опыт. И действительно, сейчас идут горячие споры о существовании свободы на субатомном уровне.
Можно ли сказать, что электрон «выбирает», куда ему прыгнуть? Очевидно, это невозможно доказать. Единственное доказательство, которое у нас могло бы быть (то, что мы не можем предсказать действия электронов), у нас уже есть. Вряд ли его можно считать решающим. Тем не менее, если мы хотим прийти к последовательному материалистическому пониманию мира, то есть если мы рассматриваем разум не как некую сверхъестественную, отделенную от мира сущность, а скорее как более сложную организацию уже существующих повсеместно процессов, тогда это значит, что нечто похожее на намерение, нечто близкое к опыту, нечто наподобие свободы должно существовать вообще на каждом уровне организации материи.
Почему же тогда большинство из нас сразу отбрасывает такие выводы? Почему они кажутся нам безумными и ненаучными? Или, что куда более важно, почему мы вполне готовы признать (пусть и «метафорически») агентность цепочки ДНК, но считаем абсурдным допустить то же самое по отношению к электрону, снежинке или постоянному электромагнитному полю? Похоже, ответ состоит в том, что снежинке невозможно приписать эгоистический интерес. Если мы убеждены, что единственным рациональным объяснением действия может быть корыстный расчет, то во всех перечисленных выше случаях рациональное объяснение не может быть найдено по определению. В отличие от молекулы ДНК, которой можно приписать какой-то «гангстерский» проект по бесконечному самоумножению, электрон просто не может преследовать никакого корыстного интереса и даже просто бороться за выживание. Ему нет смысла конкурировать с другими электронами. Если электрон действует спонтанно, если, как сказал бы Ричард Фейнман, он «делает все, что хочет», то это может быть только свободное действие как самоцель. Следовательно, проявления свободы встречаются на самом базовом уровне материи. Это значит, что мы пришли к самой элементарной форме игры.
Дэвид гребер в чем смысл если нельзя повеселиться
Дэвид Гребер. Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда. М.: Ад Маргинем Пресс, 2020. Перевод с английского Армена Арамяна и Константина Митрошенкова

Гребера, антрополога и анархиста, в России знают и читают. Из четырех переведенных на данный момент книг две оказались довольно нишевыми («Фрагменты анархистской антропологии» и «Утопия правил. О технологиях, глупости и тайном обаянии бюрократии») и интересными скорее для академической и активистской тусовок, чем для широкой публики; одна — по праву — стала супер-бестселлером («Долг. Первые 5 000 лет истории»), а четвертая (собственно, только что вышедшая «Бредовая работа») — претендует на то, чтобы переплюнуть по популярности «Долг». О ней и поговорим.
В чем суть. Весной 2013 года Гребер опубликовал в самиздате «Strike!» небольшое эссе под названием «О феномене бредовой работы». Это эссе имело простую предпосылку: кажется очевидным, пишет Гребер, что «существуют должности, на которых, если посмотреть со стороны, люди ничего особо не делают». К таким должностям он отнес, например, HR-консультантов, координаторов коммуникаций, сотрудников PR-отделов, финансовых стратегов, корпоративных юристов и т. д.
Попробуем представить, говорит дальше Гребер, что эта точка зрения не просто предрассудок или суперупрощение, а факт: вдруг PR-консультанты и корпоративные юристы, с одной стороны, действительно никому не нужны, а с другой — какое-то количество людей, занимающих эти позиции, и сами понимают, что их работа бессмысленна? В таком случае существование этих bullshit jobs в товарных количествах и одновременно отношение к ним как к бредовым перестает быть забавным курьезом и начинает наносить «чудовищный моральный урон всему обществу».
Вскрывая генеалогию возникновения бредовых работ, Гребер приходит к мысли, что в определенный момент нас всех жестоко обманули: Джон Мейнард Кейнс еще в 1930-е годы предсказывал, что прогресс технологий в развитых странах вроде Великобритании и США приведет к тому, что в конце ХХ века люди будут работать не более 15 часов в неделю. Самое интересное, говорит далее Гребер, что этот прогноз, несмотря на очевидные обстоятельства, которые ему противоречат, на самом-то деле сбылся, но в особо издевательской форме: да, работать приходится все так же по 40–50 часов в неделю, но только 15 из них являются действительно производительными, как и говорил Кейнс, а оставшиеся 25–35 — это та самая bullshit-нагрузка, которую мы по какой-то загадочной причине получили в довесок.
Причины существования этих «лишних» рабочих часов и вправду загадочны, если рассуждать с чисто рыночной точки зрения. Казалось бы, если труд не является производительным, то капиталист не должен его оплачивать. Так почему бы «рынку» не избавиться от этих издержек? Почему не уменьшается штат тех сотрудников, которые фактически заняты делом 2–2,5 часа в день, а в оставшееся время занимаются ерундой? Ну или хотя бы не сокращается их рабочий день?
Гребер-анархист быстро находит ответ на подобные вопросы: причину этих очень странных дел, пишет он, действительно трудно обнаружить, ограничивая себя анализом исключительно экономической сферы. Ее нужно искать в другой плоскости, ибо она, эта причина, носит моральный и политический характер: «Правящий класс пришел к выводу, что счастливое и продуктивное население с обилием свободного времени представляет смертельную опасность».

Провокация, как ни странно, удалась, хотя, в общем-то, подобными лозунгами пестрят радикальные листки по всему свету, и Гребер здесь явно не может претендовать на оригинальность. Тем не менее скандальное эссе стало крайне популярным, его содержание начали обсуждать на различных площадках, автора закидали письмами, а некоторые читатели и вовсе стали распространять текст «Феномена бредовой работы» среди своих коллег, принимая его чуть ли не за подрывную публицистику.
Наша история начинается примерно в этот момент. Штука в том, что этот факт — факт повышенного внимания публики к тривиальному даже не аргументу, а общему месту риторики политических радикалов всех мастей — не ускользнул от натренированного взгляда Гребера-антрополога. Стало понятно, что в содержании эссе, помимо политических ламентаций, было еще что-то, что задело какой-то очень важный нерв, натянутый, как струна, поперек публичной жизни.
Чтобы лучше разобраться в том, что же произошло на самом деле, Гребер обратился к своим читателям: «Во второй половине 2016 года я создал для исследования специальный адрес электронной почты. Я использовал свой аккаунт в Twitter и попросил пользователей, которые считают, что они делали или делают бредовую работу, прислать мне свои истории. Реакция была впечатляющей. В итоге я собрал более двухсот пятидесяти историй, начиная с рассказов размером в один абзац и заканчивая одиннадцатистраничными эссе. »
Результатом этого исследования и стала обсуждаемая книга — «Бредовая работа. Теория», получившая в русском переводе подзаголовок «Трактат о распространении бессмысленного труда». И тут очень важно отметить следующее: Гребер-антрополог, будучи профессиональным и дотошным наблюдателем привычных (и потому незаметных) социальных структур, несколько смещает фокус своего внимания. В книге, в отличие от исходного эссе, его занимает в первую очередь попытка деконструкции напряжения, которое ощущают многие из нас, наблюдая за собственной жизнью. При этом наблюдение происходит из особой установки, диктующей необходимость воспринимать «работу» как нечто навязанное, кромешное и ворующее время, а «жизнь» — как те скромные часы свободного от работы досуга, в которые мы могли бы быть счастливы, но вечно не успеваем этого сделать.
Вторая исследовательская топика, находящаяся в сложных отношениях с деконструкцией дихотомии «работа» — «настоящая жизнь», заключается в стремлении Гребера ответить на вопрос о том, как получилось так, что труд, который, с одной стороны, приносит работнику удовлетворение, а с другой — является общественно-полезным, как правило, оплачивается значительно хуже, чем труд спекулятивный и/или бюрократический, являющийся во вселенной Гребера однозначно сомнительным. Как минимум сомнительным.
Книга Гребера по своему характеру далека от привычных академических стандартов. Кроме прочего, авторская методология предполагает — для фиксации особенностей исследуемого феномена — использование совокупности так называемых анекдотических свидетельств. Этот подход хорошо описал Григорий Юдин, научный редактор перевода: «Ключевое понятие этой книги сконструировано тонко: автор специально подчеркивает, что ваша работа является бредовой, только если вы сами считаете ее таковой. Однако если у вас есть стойкое ощущение, что все рабочее время или его часть вы занимаетесь какой-то ерундой, то можете не сомневаться: наверняка так оно и есть. Ведь нет никого, кто мог бы знать это лучше вас».
Так что те читатели, которые ожидали, что автор станет разбираться с феноменом бредовой работы в стилистике и манере им же написанного «Долга», будут, вероятнее всего, в чем-то разочарованы. С другой стороны, тут есть своя польза: у рецензента тоже оказываются развязаны руки в плане отбора материалов для своей работы. Я предлагаю провернуть собственное небольшое исследование, обратившись к непосредственному опыту читателей «Бредовой работы» Гребера и с опорой на их мнения поразмышлять о книге.
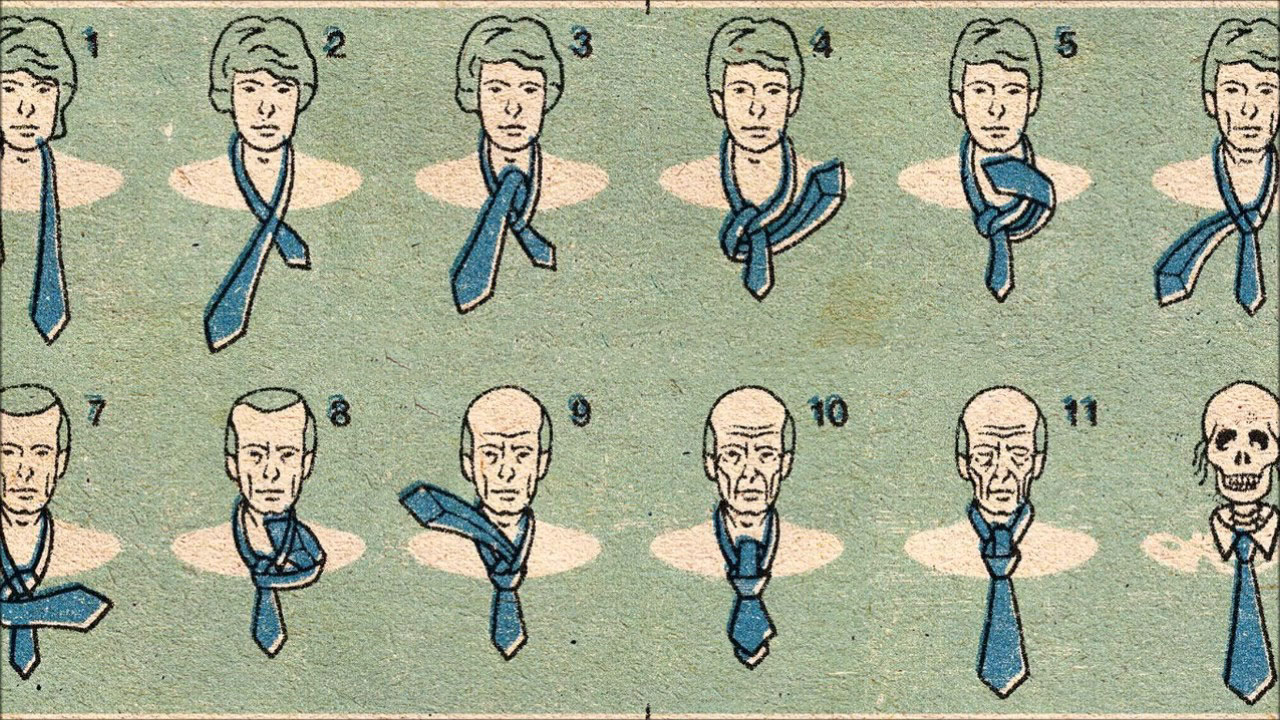
Чтобы проиллюстрировать, на какой именно проблеме сфокусировано антропологическое воображение Гребера в «Бредовой работе», я перескажу историю, изложенную в комментарии пользователя с ником J. Sebastian.
Он пишет, что, несмотря на то, что у него очень хорошая работа и очень приличная зарплата, ему приходится страдать от ощущения собственной никчемности («I have always felt unessential in the grand scheme of things»). Будучи вполовину младше, чем автор этого комментария, Александр Великий успел завоевать половину обитаемого мира. J. Sebastian к своим годам добился позиции техника по выездному ремонту в компании Bic, занимающейся производством зажигалок. На каждой зажигалке, утверждает автор комментария, указан бесплатный номер службы поддержки: если зажигалка перестала работать, покупатель может позвонить по этому номеру и попросить помощи, ведь производитель обеспечивает пожизненную гарантию каждого проданного изделия.
Команда, в которой работает J. Sebastian, на связи круглые сутки, семь дней в неделю — при необходимости они отправятся в любую командировку, чтобы заменить или починить сломавшуюся зажигалку. Иногда, если клиент живет слишком далеко, команда техников отправляется на помощь на корпоративном вертолете — ничто не должно помешать клиенту прикурить сигарету при помощи зажигалки Bic. В ходу лозунг: «People need to keep smokin’ ». В целом работа не пыльная: в среднем техники реагируют на 1,48 звонков в месяц, что оставляет достаточно времени на семью, чтение книг и досуг. Время от времени членов команды отправляют на тренинги: то в Баварские Альпы, то на Сейшельские острова, то в Африку. В планах — тренинг в Антарктиде. J. Sebastian, спецназовец по ремонту одноразовых зажигалок, зарабатывает шестизначную сумму в год, но переживает, что, даже если он буквально сгорит на своей работе, отдав жизнь во славу корпоративного монстра, никто и никогда не вспомнит его имени. Это очень огорчительно. В один прекрасный день, чтобы избавиться от ощущения бессмысленности своего труда, он хотел бы все бросить и пойти работать учителем. J. Sebastian благодарен Дэвиду Греберу за то, что тот показал, насколько он не одинок в своих переживаниях.
Эта история, конечно, замечательный стеб, что, с другой стороны, никак не мешает ей быть достаточно проницательной. Действительно, терзание, возникающее в душе работника, рассматривающего свою наличную жизнь сквозь призму ностальгии по жизни несбывшейся, — это примета времени. Кто из нас, занимаясь изо дня в день разнообразной маловдохновляющей рутиной, не мечтал однажды все бросить и начать делать что-то классное и настоящее?
Наверное, мечтали многие, благо популярная культура подсовывает в этом отношении массу примеров: найди себе дело по душе и тебе не придется (наконец-то, черт возьми) работать ни дня в жизни. Больше того, если поговорить со знакомыми, окажется, что таких примеров предостаточно и на расстоянии вытянутой руки: вот человек был архитектором, мучался, а потом все бросил и стал профессиональным гидом в своем собственном микробюро путешествий; вот человек был дизайнером, мучался, а потом все бросил и открыл бизнес по производству крутой керамической посуды. И так далее.
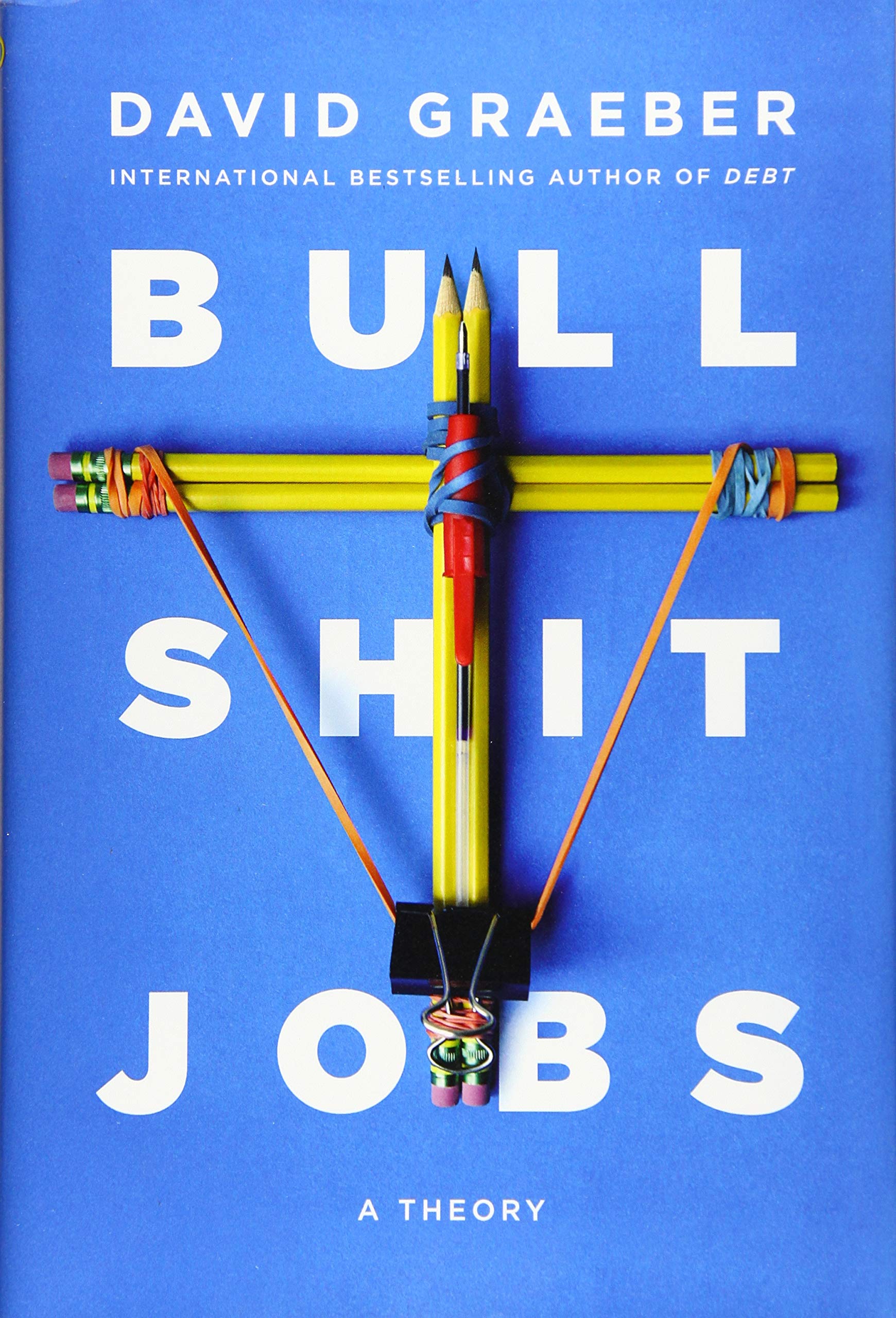
Как быть с тем фактом, что терзающее представление о возможности «настоящей жизни», похоже, инсталлировано в наши головы благодаря действию тех же самых социальных механизмов, которые позволяют «врагам прогресса» (финансовым капиталистам, «одному проценту», правящему классу и т. п.) сохранять свои властные позиции? Может быть, вовсе и нет никакой «настоящей жизни» за пределами постылой работы (как и самой «постылой работы», собственно), а сама эта дихотомия — сложная ловушка досужего ума, из-за которой по всему миру растут продажи энергетиков, тренингов личностного роста, пищевых добавок, абонементов в фитнес-клубы, услуг психоаналитиков, антидепрессантов, подписок на сериалы и один бог знает чего еще?
Что это за механизмы, если говорить конкретнее? Гребер-анархист знает ответ: общественная ценность работы, равно как и необходимость ее выполнять, даже если она является очевидно бредовой, навязана теми, кто захватил монопольное право на управление идеологией, т. е. «правящим классом». Чтобы обосновать этот тезис, Гребер обращается к истории приключений теологических, моральных и политических аргументов, выдвинутых западной культурой для оправдания труда.
Как описывает эти механизмы Гребер-антрополог? Короткий ответ — никак, ведь задачи у книги несколько другие, о чем речь пойдет ниже. Как можно было бы это сделать? Например, можно было бы обратиться к анализу специфики тех профессий, представители которых чаще всего страдают от болезненного разделения жизни на две половины: «настоящей» и выморочной, «бредовой». Среди прочих такую попытку предпринял Франко Берарди в своей книге «Душа за работой», где он разбирает феномен цифрового труда — того самого труда, которым занят автор этой рецензии, ее редактор, ее читатель, переводчики книги Гребера и куча других людей: «координаторы коммуникаций», «корпоративные юристы» и т. п.
Здесь, однако, стоит повториться: «Бредовая работа» по своей глубине и стилистике — это не «Долг», и ждать от нее серьезного антропологического анализа систем современного мышления просто не нужно. Эта книга призвана, находясь на стыке сразу нескольких популярных жанров, выполнять другие задачи. Дадим слово еще одному пользователю Goodreads — Kari Barclay. Он пишет, что то, что внешне напоминает антропологическое исследование, стало «одной из лучших книг в жанре self-help» из тех, с которыми ему приходилось сталкиваться, с одной стороны, а с другой — «манифестом о том, как устроить свою жизнь и работу более осмысленным образом».
Действительно, многие комментаторы, в том числе русскоязычные, пишут о том, что книги Гребера имеют, кроме теоретического, еще и терапевтическое значение. В этом плане «Бредовая работа» — показательнее прочих книг автора, и именно поэтому ей обеспечена любовь читающей публики. Некоторые из комментаторов на Goodreads даже говорят, что пережили катарсис, ознакомившись с ее содержанием.
Помимо того, что «Бредовая работа» по праву претендует на то, чтобы занять достойное место среди других книг в жанре self-help, а также помимо флера подрывного манифеста, книга обладает и другой важной жанровой чертой. «Бредовая работа» умело замаскирована под нон-фикшн, чтение которого наряду с тоской по «настоящей жизни» стало подлинной приметой времени.
Честно говоря, я этого от Гребера не ожидал, но и он стал, оказывается, мастером подкинуть в текст немного биологического редукционизма. Для того, чтобы объяснить, почему мы испытываем такое отчаяние от совершения действий, которые не приносят никакого ощутимого результата, он обращается к теории немецкого психолога начала ХХ века Карла Грооса, который ввел в научный оборот термин «удовольствие быть причиной». Совершение действий, приводящих к предсказуемому и запланированному результату, позволяет человеку ощутить собственную самость и воспринимать себя в качестве сущности, отличной от окружающего мира, говорит Гроос. Бредовая работа, сообщает Гребер, блокирует это удовольствие, заставляя нас заниматься чем-то таким, что не приводит ни к каким результатам. Собственно, все. Две страницы про доктора Грооса призваны фундировать различение «игры» и «работы», чтобы доказать, что бредовая работа — зло.
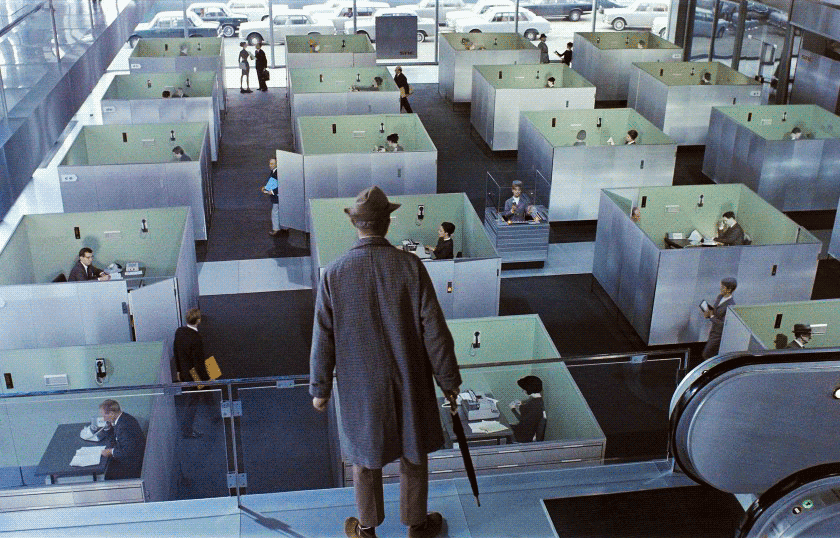
Пространность, относительно случайный характер отбора, а также поверхностность изложения всех этих (несомненно, важных) тем может вызывать разную реакцию. Я, например, вполне представляю, как можно обосновать именно такую работу с текстом, исходя, скажем, из жанровых ограничений. Отзывы на Goodreads, однако, пестрят замечаниями в том духе, что автор вполне мог бы остановиться на написании исходного эссе, раздувать которое до масштабов полноценной книги, занимаясь бесконечными самоповторами, не было никакой необходимости.
Еще одной особенностью книги — не уверен, кстати, как ее описать в устоявшихся жанровых терминах, — является то, насколько Гребер прорабатывает свои основные понятия. Казалось бы, центральный концепт (бредовая работа) описан по-настоящему дотошно, но, если начать разбираться, окажется, что он держится в первую очередь на здравом смысле, а не на хоть каком-то теоретическом фундаменте.
Типология бредовых работ (все эти «костыльщики», «шестерки», «галочники» и т. п.) выглядит на первый взгляд «прикольно», но по факту, что называется, «дребезжит» и является какой-то не очень остроумной схоластикой (в плохом смысле слова), сама постоянно требуя «костылей» и «заплаток»: взять хотя бы появляющееся в какой-то момент внутреннее различение «bullshit jobs» vs. «shit jobs» или постоянные попытки наделить безусловной значимостью некоторые социальные роли (например, роль школьного учителя), хотя эта значимость должна, если следовать выбранной методологии, определяться строго субъективно самим работником. Те же самые претензии можно обратить и в адрес других важных для Гребера понятий: менеджериальный феодализм, «заботливый класс» и т. п.
Все это очень напоминает несколько других книг, в тексте которых авторы работали с мемами так, будто эти мемы являются понятиями: «Восстание креативного класса» Ричарда Флориды («The Rise of the Creative Class. And How It’s Transforming Work, Leisure and Everyday Life») и «Прекариат: новый опасный класс» Гая Стэндинга. Собственно, рассуждая в «Бредовой работе» о «восстании заботливого класса», Гребер прямо указывает на то, что его книга текстологически наследует первым двум, причем в большей степени именно книге Стэндинга, конечно (см. работы последнего о безусловном базовом доходе).
Итак, если суммировать, то что мы получаем на выходе. На выходе мы получаем книгу со сложным жанровым устройством, которое представляет из себя смесь элементов политического манифеста, нон-фикшна, литературы self-help и легкоусваиваемой квазитеории, базирующейся скорее на случайной совокупности мемов, чем на системе однозначно проработанных понятий. Все это — в обрамлении атрибутики классического трактата.
Что произойдет дальше? Хулиганский мем «бредовая работа» войдет в обиход, став очередным buzzword, и произойдет это во многом именно в связи со значительным терапевтическим эффектом книги. Гребер подарил прекарному креативному классу и прочей читающей публике язык, при помощи которого можно говорить о своей тоске и ненависти. Сама книга, учитывая тот жанровый коктейль, который я описал выше, станет, вероятнее всего, довольно ходовой и популярной. Тоски, терзаний и депрессий, вызванных к жизни дихотомией «бредовая работа» — «настоящая жизнь», меньше не станет, т. к. способ обсуждения этой дихотомии в данном тексте не предполагает ее преодоления, а, наоборот, способствует автокатализу. Что еще? А, да — безусловный базовый доход введен не будет.
Такие вот, как говорится, дела.

P. S. Теперь минутка непрошеных советов.
Если читатель захочет самостоятельно разобраться с тем, на каком еще языке можно говорить и об особенностях современного труда в целом, и о соотношении «цифрового» или «когнитивного» труда и счастья в частности, я рекомендую ему обратиться, например, к недавно вышедшей на русском языке книге операиста Франко Берарди «Душа за работой». В этой книге есть замечательная пятая глава — «Фабрика злосчастья», — в которой Берарди рассказывает о том, как связаны между собой «ситуация конкурирования», императив самореализации, стремление к счастью и распространение некоторых современных психопатологий.
Если же читатель (как и я) с подозрением относится к литературе в жанре self-help, но любит вышибать клин клином, я предлагаю ему присмотреться к книге «Конец эпохи self-help: как перестать себя совершенствовать» Свена Бринкмана. Она нудная и противная, однако довольно короткая и работает примерно так же, как и «Легкий способ бросить курить» Алена Карра, т. е. помогает — почему-то — какому-то числу людей избавиться от вредных привычек. Например, от привычки жить мечтой о «лучшей версии себя». Кстати, на эту тему есть еще «Усталость быть собой» Даниэля Эренберга.
Ну а уж если случится так, что читатель захочет по-настоящему стильной радикальной литературы, мы советуем ему сходить в районную библиотеку и откопать там книжку «Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир» за авторством тру-анархиста Ивана Иллича — хорватского аристократа, но левака, еврея, но католического богослова, инженера-кристаллографа и бойца французского Сопротивления. Он кое-что расскажет об учителях и учениках.
